ДВЕ ЧУДЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ РАДОНЕЖСКИМ
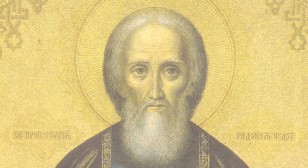
8 октября мы отмечаем память величайшего русского святого Преподобного Сергия Радонежского.
Иван Шмелев, замечательный русский писатель, живший уже в 20 веке, описал две чудесные встречи со святым. Они произошли в середине 1920-х годов. Рассказ об этом называется «Куликово поле» и имеет подзаголовок – неофициальное расследование.
Повествование ведется от лица бывшего следователя еще дореволюционной России, который тоже испытал немало бед от безбожной власти. Шмелев услышал эту историю уже в 30-х годах, в эмиграции. Мы публикуем выдержки из рассказа и советуем прочитать его полностью.
Первая необычная встреча произошла на Куликовом поле, а вторая в Сергиевом Посаде, вблизи закрытой большевиками Троице-Сергиевой Лавры. Специально не даем иллюстраций, чтобы читатели сами могли представить столь яркие события.
– Случилось это в 1925 году, по осени. Василий Сухов – все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто детское, – служил лесным объездчиком.
Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк. Смотался, прозяб – был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, – давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовение убиенных на Куликовом поле, и вообще усопших, и потому называется еще родительская.
Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня – до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот – Куликово поле.
Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители Живоначальной Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «Ты одолеешь»? Дух его был на Куликовом поле, и отражение битвы видимо ему было за четыреста с лишком верст, в обители, – духовная телевизия.
По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это «на самом Куликовом поле». Голые поля, размытые дороги полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул… – трах!.. – чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел.
Что такое?.. К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал… – нет: пятится и храпит. Глянул через коня, видит: полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. «Чего боятся?..» – подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболе только. Пригляделся… – что-то будто в воде мерцает… подкова, что ли?.. – бывает, «к счастью». Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает – ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, – никак. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует… да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост?..
Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил… медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест – добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь и не шелохнется, «как ласковый». Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает – кто-то, должно, подковой оцарапал.
Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит – литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. С той поры, как битва была с татарами, больше пятисот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля – целина, выбили вот проезжие в распутицу.
Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, – наперсный; накось – ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке… да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал… она и образа пишет – какая бы им радость. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи преподобного… Го-споди!.. – в музей поставили, под стекло, глумиться.
Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.
– Обидой обожгло всего… – рассказывал он, – будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и…
Опомнился – надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит – с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, не потеряется. Полез за пазуху… – И что-то мне в сердце толкнуло… – рассказывал он, с радостным лицом, – что-то как затомилось сердце, затрепыхалось… дышать трудно…
– Гляжу – человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен».
По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный. Седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, будто самого родного встретил. Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал:
– Здравствуйте, батюшка! Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем – так называл его.
Старец ласково «возгласил, голосом приятным»:
– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо.
От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца… – повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и – так хорошо поговорили. Только смутился словно, когда сказал:
– Такой лик, священный… как на иконе пишется, в себе сокрытый. Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности – такие встречаются в народе.
Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:
– Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?
Сухов определял, что старец говорил священными словами, церковными, как Писание писано, но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один на один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит – как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:
– Пожалел меня словно, что у меня мысли растерянны, не знаю, как бы сберечь мне крест… – сказал-то: Чесо же смущаешися, чадо?
Сказал Сухов старцу:
– Да, батюшка… мысли во мне… как быть, не знаю.
И рассказал, будто на духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили из-под земли проезжие. А это место – самое Куликово поле, тут в старинные времена битва была с татарами… может, и крест этот с убиенного православного воина; есть словно и отметина – саблей будто посечено по кресту… и вот, взяло раздумье: верному бы человеку переслать, сберег чтобы… а ему негде беречь, время лихое, неверное… и надругаться могут, и самого-то замотают, пристани верной нет: прежде у господ жил, потом у купцов… – а нонче, – у кого и живу – не знаю.
И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости к себе и ко всему доброму, что было… – вся погибель наша открылась… – и он заплакал.
Старец сказал – ласково-вразумительно, будто хотел утешить:
– Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень – знамение Спасения.
От этих священных слов стало в груди Сухова просторно – всякую тягость сняло. И он увидел: светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это – багровый свет. Спросил старца:
– Далече идете, батюшка?
– Вотчину свою проведать.
Не посмел Сухов спросить – куда. Подумал: Что я, доследчик, что ли… непристойно доспрашивать, скрытно теперь живут. Сказал только:
– Есть у меня один барин, хороший человек… ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише… да навряд.
Старец сказал:
– Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему.
Обрадовался Сухов и опять не удивило его, что старец идет туда, –будто бы так и надо. Сказал старцу:
– Сам Господь вас, батюшка, послал… только как вы разыщете, где они на Посаде проживают?.. Скрытое ноне время, смутное. Звание их – Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей… Ольгой Егорьевной звать, и образа она пишет… только и знаю.
– Знают на Посаде. Есть там нашего рода.
Радостью осияло Сухова – как светом-теплом согрело – и он сказал:
– Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите… скажите: кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик… они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете… ночь подходит? Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу… время лихое ноне, обидеть могут… и церковь у нас заколотили.
Старец ласково посмотрел на Сухова, весело так, с приятностью, сказал ласково, как родной:
– Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище.
Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.
– Как хорошо-то, батюшка… Господь дал!.. – радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось: – Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось… почтой послать – улицы не знаю… и доспрашивать еще станут, насмеются… – да где, скажут, взял… да не церковное ли утаил от них… – заканителят, нехристи.
Сказал старец:
– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И помолился на небо.
– Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся.
И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.
Продолжает рассказ бывший следователь о второй встрече, которая состоялась через год.
– В середине августа выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло к «Троице». Что, собственно, толкнуло?.. Там ютилось много известных бывших людей: В.Розанов, А.Александров, Л.Тихомиров, работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С.Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским… Нестеров написал с них любопытную картину: дал их «в низине», а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически «поднявшихся горе»… – русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки «Святого Града» – Троицы-Сергия…
Когда все было – не собрался, а тут – погляди остатки. И я поглядел эти остатки. И увидел – нетленное. Но в каком обрамлении! В каком надрывающем разломе!.. Не повидал при свете – теперь посмотри во тьме.
Приехал я в Загорск утром. Уже не Сергиево, а Загорск.
И тут увидал я солнечно-розовую Лавру. Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал… Сколько пережила она за свои пять веков! Сколько светила русским людям!.. Она светилась… – и, знаете, что почувствовал я тогда в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. Сколько еще увидит жизни!.. Поруганная, плененная, светилась она – нетленная. Было во мне такое… чувство ли, дума ли:
– Все, что творится – дурманный сон, призрак, ненастоящее. А вот это – живая сущность, творческая народная идея, завет веков. Это – вне времени, нетленное… Можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется… Высокая розовая колокольня, «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной… синие и золотые купола… – не грустью отозвалось во мне, а светило. Впервые тогда за все мутные и давящие восемь лет почувствовал я веру, что есть защита, необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем – опора. Помню, подумал тут же:
– Вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защиты и опоры.
В грусти бесцельного блужданья нашел отраду – не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю – донес ли ему старец крест с Куликова поля.
Узнали мы друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел. Разговор наш легко наладился.
Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова поля.
– А вы откуда знаете?.. – удивился Среднев. Я объяснил. Он позвал Олечку.
– Для нее это чрезвычайно важно… она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился… Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко… несомненная старина. Возможно, что «боевой», от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то… саблей?.. Где посечено – зелень, а все остальное ясное.
– Ка-ак?! Ни черноты, ни окиси?.. – удивился я…
– Только где посечено… а то совершенно ясное.
Вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.
– Скажите… – сказала она прерывисто, с одышки, – все, что знаете… Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать – узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности… и не видит, как все его умствования ползут… А сами вы… верующий?
Я ответил, что маловер, как все, тронутые «познанием».
– Маленьким земным знанием, а не «познанием…» – поправила она с жалеющей улыбкой.
– Да-а, «чердачок» превалирует!.. – усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, не без удовольствия.
– Скажите, что же говорил наш Вася… Сухов… как он говорил? Он не может лгать, он сердцем…
Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении:
– Так и сказал – «священный лик»?.. «Как на иконах пишется… в себе сокрытый…»?!. Слышишь, папа?.. А я… что и сказала тогда?!.
Среднев пожал плечами.
– Что тут доказывать!.. – сказал он снисходительно-усмешливо. Почему не объяснять не чудесным… тожеством восприятий? Бывают лица, особенно у старцев… скажу даже – лики… о-чень иконописные! Не «небесной же моделью» пользуются иконописцы, когда изображают лики?.. Тот же гениальный Рублев – свою Троицу?!
Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уж равнодушен к «случаю», как старается показать: в его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о «встрече» на Куликовом поле слушал он очень вдумчиво.
Заинтересованный происшедшим здесь – тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, – я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило – не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их:
– По возможности точней, все, что припомните… иногда и мелкая подробность вскрывает многое». Будто я веду следствие… ну, может быть, машинально вышло, по привычке. И вот что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле.
Случилось это в конце прошлого октября, или – по новому стилю – в первых числах ноября.
Оба помнили, что весь день лил холодный дождь, «с крупой», – как и на Куликовом поле! – но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-я годовщина «Октября». День был «насыщенный». Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: «Всем, всем, всем!!!» Совсюду било в глаза настоятельное предложение «показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября», всем решительно принять активное участие в массовой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в «Доме Октября», где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача – в самый день празднования – всем совработникам, особого, сверх нормы, «гостинца» – пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооперата, с 7 до 8: «Просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией, в 9-30».
Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была – была в церкви. Но Среднев ходил с толпой по Посаду, часа два грязь месили под ледяным дождем. Уклониться никак нельзя – бухгалтер! – заметили бы. Здесь всех знают. В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы.
Вернулись домой, усталые, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря. Как и выйти со двора, – поправил Среднев, – забор на пустырь полуразвален. Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило семь.
Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг кто-то постучал в ставню, палочкой, –три раза, раздельно, точно свой. Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя: Кто это? К ним заходили редко, больше по праздникам и всегда днем; те стучат властно и в ворота. Оля приоткрыла форточку… – постучали как раз в то самое окошко, где форточка! – и негромко спросила: Кто там? Среднев через «сердечко» в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом» – так говорил и Сухов:
– С Куликова поля.
Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то… – знает их! Сердце у Олечки захолонуло, будто от радости. Она зашептала в комнату: «Папа… с Куликова поля!.. – и тут же крикнула в форточку – Среднев отметил –радостно-радушно: – Пожалуйста… сейчас отворю калитку!.. И стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже, – добавил Среднев.
Небо пылало звездами, такой блеск… – не видала, кажется, никогда такого. Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру в монашеской наметке, и – очевидно, от блеска звезд, – вносил свое объяснение Среднев, – лик пришельца показался ей как бы в сиянии.
– Войдите-войдите, батюшка… – прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой – посветить.
Хрустело под ногами, от морозца. Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа Рождества Богородицы и Спаса Нерукотворенного – по преданию, из опочивальни Ивана Грозного – и, благословив все, сказал:
– Милость Господня вам, чада.
Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что… – как-то невольно вышло… от торжественных слов, возможно. Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им все и сказал, внятно и наставительно:
– Радуйтеся Благовестию. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом поле и волею Господа посылает во знамение Спасения.
– Он, – рассказывала Олечка, – сказал лучше, но я не могла запомнить.
– Проще и… глубже… – поправил Среднев, – и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах… затрудняюсь определить… проникновенную, духовную?..
Они стояли как бы в оцепенении. Старец положил Крест на чистом листе бумаги. И, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:
– Не уходите… побудьте с нами… поужинайте с нами… у нас пшенная похлебка… ночь на дворе… останьтесь, батюшка!..
– Вот именно, про пшенную похлебку… отлично помню!.. – подтвердил Среднев.
С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, настойчиво даже, по замечанию Среднева:
– Нет, вы останетесь!.. Мы не можем вас отпустить так… у нас чистая комната, покойного профессора… он был очень верующий, писал о нашей Лавре… с вами нам так легко, светло… столько скорби… мы так несчастны!
– Она была прямо в исступлении, – заметил Среднев.
– Не в исступлении… а я была… так у меня горело сердце, играло в сердце!.. Я была… вот, именно, блаженна!.
Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, как бы вслушиваясь в себя:
– Волею Господа, пребуду до утра зде.
Дальше… –все было, как в тумане. Среднев ничего не помнил, говорил ли со старцем, сидел ли старец, или стоял… –было это, как миг… будто пропало время.
В этот миг Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее – вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках… теперь негасимая она… – озарило ее сияние, и она увидела Лик. Это был образ преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное, от слез, сияние.
В благоговейном и светлом ужасе, тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.
– Что было в моем сердце, этого нельзя высказать… – рассказывала в слезах Оля. – Я уже не сознавала себя, какой была… будто я стала другой, вне обычного-земного… будто – уже не я, а… душа моя… нет, это нельзя словами.
– Она показалась мне радостнопросветленной, будто сияние от нее!.. – определял свое впечатление Среднев.
А с ним ничего особенного не произошло. Только на душе было как-то необычайно легко, уютно. Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав:
– Завтра день недельный, повечеру не вкушают.
Среднев тогда не понял, что значит «день недельный». Оля после ему сказала, что это значит «день воскресный».
По его пояснениям, Оля тогда была где-то, не сознавала себя. Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, чтобы гостю было удобно и уютно. Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора –вот эту самую – и удивился, как уютно стало при лампадке. Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев – это он помнил – ничего не сказал, будто так и надо, а лишь почтительно поклонился. Старец – видела Оля через слезы – остановился в дверях, и она услыхала слово благословения:
– Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом.
И благословил пространно, будто благословлял все. И затворился.
Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и в слезах шептала: – Ах, папа… мне так хорошо, тепло…. И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту приятную тишину: И мне хорошо.
– Было такое чувство… безмятежного покоя… – подтверждал Среднев, – что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется воздействием родственной души… в психологии: волнение Оли сообщилось мне… то есть, ее душевное состояние.
Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась. Ей казалось, что Крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: — Не тронь, не тронь… Так Крест и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронуто.
Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о жизни». Чувствовал, что не спит и Оля.
Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее радостными и светлыми. Ей все вдруг осветилось, как в откровении. Ей открылось, что все – живое, все – есть. Будто пропало время, не стало прошлого, а все – есть! Для нее стало явным, что покойная мама с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у нее, жив и с нею. И все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого – все родное наше, – есть и с нею. И Куликово поле, откуда явился Крест, – здесь и в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это дано на миг… боялась шевельнуться, испугать мыслями… – но все становилось ярче… светилось, жило..
Ночи она не видела. В ставнях рассвет… Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из апостола Павла к Римлянам:
– И потому, живем ли, или умираем, всегда Господни.
– Понимаете, все живет! У Господа ничто не умирает, а все – есть! Нет утрат… всегда, все живет. Я не понимал.
И вот утро. Заскрежетал будильник – шесть. Среднев вспомнил – завтра отыду рано – и осторожно постучал в кабинет профессора…
Молчание. Оля сказала громко: Войди – увидишь: он ушел. Но он не мог уйти! Оля сказала, уверенно:
– Как ты не понимаешь, папа… это же было явление святого!..
Среднев не понимал. Он вошел в комнату – постель нетронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ преподобного:
– Ты видишь?!. И не веришь?!.
Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был – абсурд.
Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя – загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека – явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: И вы, как папа?.. Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка: рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно. И я приступил к расследованию.
Только один был выход из кабинета профессора – через их комнату. Они не спали и не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала, это облегчало уход бесшумный; но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, – это могло, на первый взгляд, поразить: ушел, а дверь оказалась на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное; а то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой – не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.
– Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, и… Он повел меня в сени и показал:
– Смотрите… поднятая щеколда держится довольно туго… ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь… – и щеколда падает в пробой! – сказал он уже за дверью. – Какое же объяснение иначе?!
Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: гость, выходит, уж слишком предупредителен: не хочет беспокоить спящих, оберегает их от воров и… догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится!..
Оля упорно повторяла:
– Это было явление!.. Он ушел, для него нет преград.
Из дальнейшего рассказа о том утре…
Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо:
– Завалило снегом?.. Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!..
Среднев и тут объяснял логично: значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти и до снега… мог пройти мимо них неслышно… можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут… можно было пролезть в малинник – забор развален.
Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала логика. Для Среднева чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом поле еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, достойнейший человек… может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни… Пробовал объяснить и мотив «явления»:
– Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Эта находка Васи!.. Только вообразите: крест, с Куликова поля!.. Какой же символ!.. Этим Крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что… «ад отверзется»!.. Эффект психологически совершенно исключительный. Заметьте тожественность его слов Васе и нам: «Господь посылает благовестие»! Пять веков назад, с благословения преподобного Сергия, русский Великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму… и вот, голос от Куликова поля: уповайте! – И чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его!.. И он принимает на себя миссию, идет к нам, в вотчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет!..
– Не выдумал же он Куликово поле!.. – воскликнула Олечка. – Это же было… и Вася думал о нас, о Троице!.. Как все надумано у тебя!..
Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:
– Согласен, неясности есть… но!.. – он развел ручками, ища решения. – Я искренно растроган, я преклоняюсь… за идею!.. готов руку поцеловать у этого светлого пришельца… И этот уход таинственный!.. Какое тончайшее воздействие!.. Обвеять тайной.. это же почти граничит с чудом! Если такое… «явление…» бросить в массы!.. Но кто поверит нам, интеллигентам?.. Вы знаете, как народ к нам… Оля поведала лишь очень немногим, самым верным… нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо объявить Крест!.. И она хотела принять этот Крест, бесстрашно!.. Я умолил ее не делать этого: это повело бы лишь к великим бедствиям…
Эти последние слова, о «принятии Креста», Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.
На доводы отца об «идее пришельца» Оля воскликнула:
– Но это ты сам выдумал «идею» и приписываешь ее… кому?! И принимаешь это за доказательство! Где же твоя излюбленная «логика»?!. Эта «идея» – обычный революционный прием!.. Как это мелко… в связи со всем!.. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..
Нет, чуда Среднев принять не мог. Я… почти верил. Я помню смуту во мне… и необъяснимую мне самому уверенность, что я – близ чуда. Но я хотел ощупать. Опытом следователя я чувствовал – по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему материалу «дела», – что тут необъяснимое.
– И вы не верите… – с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.
Я сказал, что искренно хочу верить, что не могу не верить, смотря на вас, что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни «благой силы». Что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и… простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного – испытываю впервые в моей жизни. Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос: Да, тут – чудо. Но не высказывал этого категорично: мне – это я тоже чувствовал – чего-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею:
– Какая она несовременная: извечное что-то в ней, за-земное… такие были христианские мученицы-девы.
Наши обмены мнений продолжались дня три-четыре, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме-возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о… чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо! Тогда я не сознавал этого: творилось оно неощутимо.
– Ну, хорошо… допустим: было явление, оттуда. Допустим, гипотети-чески… – будто сдавался Среднев. – Но!.. Не могу я понять, почему у нас?!. Я, конечно, не голый атеист, не нигилист… этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушившей. Я уважаю людей веры… я лишь скептик, я… ну, я не знаю, кто я!.. Но, почему я – я! – удостоен такого… «высокого внимания»?!
– Но почему непременно вы упираете, что это вы, вы удостоены… «высокого внимания»?!. – невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. – Почему не допустить, что вы тут… только посредник?.. для чего-то…. более важного?..
Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился.
– Вы правы… – сказал он упавшим голосом, – я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я… нет, говорю совершенно откровенно, смиренно: я недостоин, я… – он не мог найти слова и развел руками.
– Папа, не укрывайся же за слова!.. – болью и нежностью вырвалось у Оли. – Ищет твоя душа, Бога ищет!.. Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил!.. Ну а все, чем ты жил… разве уже не рухнуло?!. Что у тебя осталось?.. Все твои «идеалы» рухнули!.. Чем же жить-то теперь тебе?!. Не может рушиться только вечное! А ты не бойся, ты не… – она не могла больше, заплакала.
Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось, – и это выплеснулось: что-то блеснуло мне, как вдохновенье, откровенье. По мне пробежало дрожью… и страх, и радость. Я уже знал. Знал, что таившееся во мне, неясное… сейчас вот станет ясным, раскроется. В мыслях… – или в душе?.. – светилось и просилось определиться и стать реальностью, было в каком-то взвешивании, в некоей неустойчивости – «Да?.. Нет?..» Светилось одно слово, как живое, – точнее не могу выразить. Это слово было – суббота. Взвешивалось оно, качалось во мне: «Да?.. Нет?..» И я уже знал, что «да». Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая… а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о «сроке»: «когда это произошло?» Стараясь подавить волненье, я тут же восстановил, для них: встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом поле произошла около 3 часов пополудни, в канун памяти великомученика Димитрия Солунского, в субботу, 25 октября, – в родительскую субботу, Димитриевскую. Это, бесспорно, точно: Сухов возвращался от дочери, со станции Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги… пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление там. И знал, с не меньшей же точностью, когда произошло явление здесь.
Оля, смертельно бледная, вскрикнула:
– Да?! Вы точно помните?.. В родительскую?!. Я… я в церкви поминала… Папа… слушай… папа!.. – задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу, – там… в продуктовой… записано…. и в дневнике у меня… и в твоей!
И выбежала из комнаты.
Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, и вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола… но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем… Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев – руки его тряслись – прочел прерывисто, задыхаясь:…200 граммов подсолнечного масла… 300 граммов пшена…, штемпель… 7 ноября…
– Но это… 7 ноября!.. – крикнул он в раздражении, не то в досаде, и растерянно посмотрел вокруг.
– Да!.. 25 октября, по-церковному!.. В родительскую субботу!.. В церкви были тогда, 7 ноября… поминала… ты ходил по Посаду!.. – выкрикивала, задыхаясь, Оля. – В ту же субботу, как там, на Куликовом поле!.. В тот же вечер…. больше четырехсот верст отсюда!.. В тот же вечер!.. Папа!..
Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил:
– В тот же… вечер…
Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо.
Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясало спазмами. Подобное «разряжение» я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника, не в силах уже держать давившее ее бремя, разряжалась, ломая страх. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась – чем?.. На это ответить невозможно: это вне наших измерений.
Оля смотрела напряженно и выжидательно, и это было такое нежное, почти материнское душевное движение – взгляд сердца. Я… не был потрясен: я был светло спокоен, светло доволен… – дивное чувство полноты. Видимо, был уже подготовлен, нес в «подсознательном» бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы – слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные! Два празднования: там – и здесь, Неба – и земли. Света – и тьмы. И как наглядно показано. В ту минуту я высказывался: я светло держал в сердце. Уверовал ли я?.. Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал?! Это держит потайно сердце.
Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только: чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало, во мне засияла радостность. Я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу – именно, ликованье, упованье: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все – ведется… и все – так надо. И со всем этим – страстная, радостная воля к жизни – полное обновление.
Было и еще чувство, но не столь высокого порядка: чувство профессионального торжества: раскрыл! Будто и неожиданно? Нет, я внутренне уже ждал «самого важного». И оно раскрылось: из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить «самое важное». Это – бесспорный факт.
Чувство профессионального торжества… Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе: я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя: это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни – рождение и смерть. Тут было возрождение. Это – невидимая победа-тайна.
А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно: никакими увертками «логики», никакими доводами рассудка нельзя было опорочить «юридического акта». Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально: записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева о… подсолнечном масле и пшене! Какими же серенькими мелочами – вот что разительно! Сколько же мне открылось в этом! Господи, Красота какая во всем Твоем!..
Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом… смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:
– Го-споди!..
Оля в слезах смотрела на него моляще-нежно.
В Посаде я пробыл тогда недели две, не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось…
Особенно поражало нас в нами воссозданном: «суббота 7 ноября», сомкнувшаяся со «святой субботой», ею закрытая. Оля видела в этом «великое знамение обетования», и мы принимали это, как и она. Как же не откровение?! не благовестие?! То, давнее, благовестие – преподобного Сергия Великому князю Московскому Дмитрию Ивановичу – и через него всей Руси Православной – «ты одолеешь!» – вернулось и – подтверждается. И теперь ничего не страшно.
Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это для нас начало только, но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди – огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое наше: тогда, в беседах, нам открывалось все наше, родное, – общее – вневременное и временное. Небесное и земное… – какие упованья! Не для нас же, маловеров, явлено было чудо… И раньше, до сего, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную веру. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее светом. Во имя чего? Ради чего? Для кого?
Какие были дивные вечера тогда, какие звездные были ночи!.. Какую связанность нашу чувствовали мы со всем!.. Это был воистину творческий подъем.
И стало так понятно, почему в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые испуганные души притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены Лавры… чего искали.
Рассказ Ивана Шмелева, это практически готовый сценарий. На как передать эту чудесную историю, не потеряв ее внутренней духовной сущности?



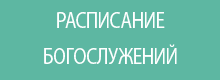
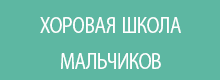
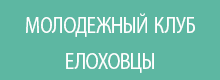
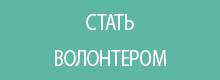
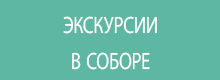
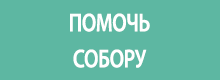

Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.